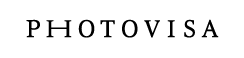Она звалась Алевтиной. Памяти Аллы Викторовны Вахромеевой (1944-2025)
Алла, Алюся. Девочка-сорвиголова из коммуналки при автомобильном заводе что на метро Автозаводская. Пройдут годы, и свои будут ее уважительно величать Алла Викторовна, а чужие, не зная ее нелюбви к собственному полному имени, Алевтиной Викторовной.
Для истории фотографии она все равно останется Аллой Вахромеевой, как подписывались ее тексты и выставки.
Она была куратором фотографических выставок. Или, как это называлось в советский период, художественным редактором отдела выставок Фотохроники ИТАР-ТАСС. Потом она была главным художественным редактором, возглавляла отдел витрин и выставок агентства. Всего работе в ТАСС она отдала 48 лет. Знала всех, ее знали все. Но это было давно? - скажите вы. Да и нет: она перестала писать биографии старых фотографов Фотохроники всего лишь три года назад. Совсем недавняя наша история.
Был 98-й или 99-й год, фестиваль современной фотографии ИнтерФото в Малом Манеже; все здание поделено на зоны, где-то идут лекции, где-то мастер классы, а по периметру трех главных залов вывешены выставки: персональные, конкурса ИнтерФото и ТАСС. Который в тот год был основным партнером международного фестиваля.
Я стояла перед очень длинной стеной большого зала и смотрела на выставку, собранную из фотографий, не предназначенных для того, чтобы их экспонировать на стенах. На полосе журнала или на газетной полосе - да. Но не в большом формате. И не в зале, где проводят выставки искусства. Эта выставка ТАСС была сделана по принципу «The best of», лучшие работы, которыми гордилась фотослужба агентства. На одной стене, позади меня, была выставка конкурса современного российского фоторепортажа - лучшее за год - ИнтерФото, передо мной - лучшее из главного официального агентства фотоновостей страны, вне конкурса. Я стояла и смотрела на эту выставку, медленно проходила вдоль нее от начала до конца длинного зала, возвращалась к центру, чтобы видеть ее всю, и понимала, что выставка передо мной - самостоятельное произведение искусства. Сейчас молодые кураторы экспозиций фотографии, идущие от концепции (и зрители их выставок также должны начинать с чтения концепции, а фотографии стали подобны взаимозаменяемым иллюстрациям к тексту), не поймут, как можно показывать фотографию, основываясь на самой фотографии, как соединять в одно разные темы, сюжеты, сложные цветовые сочетания (а Фотохроника в конце 1990-х конечно же гордилась тем, что весь материал был цветным). Как можно показывать фотографию, тем более пресс-фотографию, без текста? - Можно. Если знать ее и понимать, как создается монтаж выставки, где каждый снимок сохраняет свою ценность и сюжет, но возникают новые смысловые ряды в сочетании соседних работ, а ритм, композиционные акценты выстраиваются в силовые линии, ведут за собой зрителя, и когда ряд фотографий создает собою архитектуру выставки, «держит стену». Я стояла и восхищалась этим даже в те годы уже старомодным искусством, основанным на знании и любви к фотографии. Вдоль стены шла маленькая темноволосая женщина с ястребиным профилем и острым взглядом черных глаз. Великая Алла. Она шла вдоль своего произведения и фотографы разных поколений, официальные и любители, недавно пришедшие в пресс-фотографию и мэтры, раскланивались с ней. Шла Сама Вахромеева. Я робела, понимая, что такого высокого пилотажа организации пространства фотографией могу и не достичь. Дело не только в опыте, частоте практики выкладывания рядов, но в уникальном умении отдельно взятого человека слышать внутреннюю музыку снимков.
2007 год. Галерея Люмьер на антресолях Центрального дома художников показывает «Антологию 60-70», экспозицию, посвященную советской фотографии двух десятилетий. С этой выставки начинается серьезное отношение к маленькой частной галерее: она в состоянии объединить поколения и делать исторические обзорные проекты. Позже будут Центр фотографии им. Братьев Люмьер, участие в зарубежных фестивалях и ярмарках, выставки и издания. Но «Антология 60-70» была первой ласточкой успеха. Тем более, что даже в советские годы знаменитая «Антология Советской фотографии» вышла лишь в двух томах, 1917-1940 и 1941-1945. Каталог выставки 2007 года в зеленой обложке знают все, кто занимается историей фотографии советского времени. Но немногие обращали внимание, что книга посвящена Николаю Драчинскому, а на последней странице, мелким шрифтом, указано: кураторы проекта выражают благодарность... Алле Вахромеевой за помощь в сборе информации... Только без ее прихода в галерею с материалами Николая Ивановича Драчинского выставки 1970-го года не было бы ни идеи «Антологии 60-70», ни блестящего списка имен авторов, что был малой частью выставочного списка Драчинского. А собрать героев выставки могла только Алла: ее знали и ей доверяли. Так она ввела в фотографический мир столицы новую институцию.
Спустя пятнадцать лет после первой встречи с Вахромеевой на ИнтерФото я дописывала текст про советскую фотографию 1970-х, и понимала, что многого не знаю, не понимаю, где найти материал: одни уже ушли, другие были слишком молоды или в свое время нелюбопытны. Позвони Алле, - посоветовал старший коллега, - Алла знает все.
Алла Викторовна щедро поделилась со мной архивом: снимками знаменитых экспозиций 1970-1975 годов выставки «СССР - страна и люди в художественных фотографиях», называла имена, давала телефоны. Она была ученицей Николая Ивановича Драчинского, куратора того легендарного проекта, «нашего ответа Стайхену». Драчинский был ее божеством: еще бы, он стал проводником в профессию для девочки-переводчицы, пришедшей работать в Агентство печати «Новости» в редакцию художественных выставок, которой он руководил. Из переводчицы, которая должна была работать только с названиями к фотографиям и короткими подтекстовками для зарубежных показов, Алла стала правой рукой шефа, а потом и самостоятельным деятелем.
Когда редакцию передали в Фотохронику ТАСС (сейчас трудно представить, чтобы два государственных информационных агентства боролись за право быть «шапкой» для редакции международных выставок, пользовавшихся популярностью), Драчинского с почетом «ушли» на пенсию и Алле пришлось пережить уничтожение архивов при передаче редакции с рук на руки и начинать заново проекты международных выставок в новом доме...
А потом она позвонила мне: приближался юбилей ее Николая Ивановича. Мы снова встретились. Давайте делать книгу. В процессе работы она ездила по фотографам республик бывшего СССР, собирала воспоминания о Драчинском; сканировала и описывала архивы. Ее кумир, любовь всей ее жизни был фигурой яркой и необычной: начинал пишущим журналистом до Великой Отечественной войны на Дальнем Востоке, начал снимать; после войны был приглашен фотографом в «Комсомольскую правду» в столицу, со временем перешел в «Огонек»: специальный корреспондент, автор снимков и путевых очерков по зарубежным странам, выходивших отдельными книжицами; в 1960-е карьерный взлет - ответственный секретарь газеты «Известия» при Аджубее. С этого момента многие забыли, сколь трепетными и личными были отношения Драчинского с фотографией: в нем видели большого чиновника со странностями, что повсюду ездил с камерой.
Но когда «оттепель» стала примерзать и сменился коллектив его редакции, Драчинский был назначен руководить созданием международных фотографических выставок. И в этой роли он оказался важнейшей фигурой для нескольких поколений фотографов СССР, а его работа получила признание во всем мире. Как раз в эти годы маститый мэтр стал наставником девочки, узнавшей о своем таланте составлять рассказы из фотографий, благодаря стечению обстоятельств и великому учителю...
За успехом пришли годы забвения Николая Ивановича: редакцию передали в другое агентство, старые выставки посчитали неважными, он - пенсионер. В это время Драчинский и его Алла занимаются экспериментом в области цветной фотографии. Днем она ходит на работу, собирает подборки «Московский Кремль», «По Золотому кольцу России», а по ночам в маленькой жаркой ванной двое влюбленных в фотографию людей проявляют и печатают. За три года между отставкой и смертью Николай Иванович успел создать собственный метод получения цветных изображений на основе черно-белой фотографии. Назвал «мультиконтуром». И много десятилетий Алла Викторовна в виде маленьких выставок продолжала показывать эти сумасшедшие работы, продолжала писать о своем герое, буквально пробивая стену молчания редакторов и кураторов, не знающих ни истории, ни техники фотографии, а оттого неспособных оценить вклад Драчинского, куратора и одного из отцов творческой свободной фотографии. А она продолжала верить. И в ценность его вклада, и в важность фотографической эпохи, когда он жил и работал.
Еще недавно 1970-е не рассматривались в области фотографии всерьез: в кинематографе был Тарковский, в живописи Попков и Жилинский, Салахов, в поэзии Бродский и Ахмадулина, были Ростропович и Вишневская, а фотография... не более, чем историческая иллюстрация времени. Но это не так. Алла Вахромеева, создавшая за свою жизнь более трехсот тематических выставок, хранитель архива выставки «СССР - страна и люди в художественных фотографиях» (500 авторов, 2500 произведений - поистине советский размах и щедрость); автор биографий более 50 фотографов, ее коллег по ТАСС, - она верила, что ее жизненный опыт и опыт профессионала фотографии не сейчас, так в будущем будут нужны.
Она ушла 30 августа. А еще накануне ее рукой в дневнике было записано: запустить новые сайты по фотографии; проиндексировать в сети. Новый семинар по ИИ, прослушать. Выучить еще одну главу «Евгения Онегина» наизусть...
Ирина Чмырева
Фото: Выставка Николая Драчинского на Международном фестивале фотографии в Пинъяо (Китай), 2017 год. Кураторы: Ирина Чмырева и Алла Вахромеева, художник — Алексей Кожанов